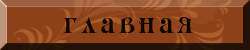

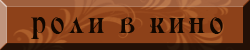
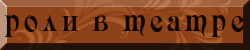


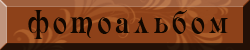

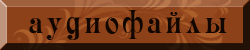


Карэн Бадалов: "Каждый день могу играть про любовь"
Несколько лет назад "ЭС" опубликовала интервью с одним из тех, с кого начиналась история "Мастерской П. Фоменко", – Карэном Бадаловым. С тех пор артист успел сыграть несколько главных ролей в театре, снялся в кино. Сегодняшняя беседа с Карэном – о Мастере, о новых ролях, о предстоящем фестивале, посвящённом десятилетию одного из лучших театров мира.– Карэн, через несколько дней начнётся фестиваль, посвящённый десятилетию "Мастерской П.Фоменко". Пройден серьёзный путь. Как вы думаете, что вас соединило вместе на курсе в ГИТИСе: перст Судьбы или прозорливость Мастера?
– Думаю, что здесь и звёзды сошлись, и его качества провидца, и то, что он впервые набирал курс сам. Наверное, сыграло свою роль и то, что средний возраст актёров-мужчин составлял двадцать два года, что редко бывает в театральных училищах. Тогда сошлись люди, близкие Петру Наумовичу, его школе. Не единомышленники, такое бывает редко. Бывают люди, которые делают одно дело. Нам очень повезло и с другими педагогами. Нас "выращивали" не в теплице, но весь "свет" был направлен на нас.
– Каждый, кто сталкивается с "Мастерской", говорит о необычной атмосфере ваших спектаклей. В чём её секрет?
– Наверное, в том, что мы друг друга понимаем с полуслова. И мы имеем право делать друг другу замечания, даже если они в чём-то обидные. Я считаю это одним из главных наших достоинств. Достоинство нашего театра, например, в том, что мы имеем возможность репетировать спектакли, хоть они и играются уже десять лет, например, "Волки и овцы". В каком театре режиссёр после выпуска спектакля будет приходить и смотреть его?! Пётр Наумович приходит и смотрит. Если он его не смотрит, то слушает. Ему этого достаточно, потому что он "слухач". Мы после спектакля собираемся на замечания. Где ещё такое встретишь?! Я думаю, это позволяет нам быть теми, кто мы есть.
– Говорят, актёры Эфроса всегда страшно боялись "разбора полётов". А вы?
– Наоборот, я жду этих замечаний. Скажут что-то хорошее – спасибо, если что-то плохое – ещё лучше.
– В интервью, опубликованном два года назад в нашей газете, вы сказали, что Пётр Наумович Фоменко в работе ставит вас в ситуации, когда вы ощущаете своё неумение. Наверное, это очень зажимает?
– Это хорошее чувство, когда есть к чему стремиться. Бывает ощущение, что чему-то не научился, злость на себя, но "зажима" нет.
– Тогда же вы сказали, что ни в чём не можете отказать Петру Наумовичу.
– Я согласен выполнять любую работу, которую он предложит, и играть любую роль. Мне интересно проходить с ним весь процесс от закладки фундамента до крыши. Если люди, желающие заниматься театральным ремеслом, посидели бы на его репетициях не наскоками, а проследили бы всю работу над спектаклем от застольного периода и до выхода на зрителя, они бы поняли, насколько это тяжело, насколько это кропотливая, кровавая работа. Для меня этот человек – Учитель, он учит меня не только актёрскому мастерству, но и мировосприятию, умению не прогибаться, иногда идти на компромиссы. Ведь актёрская работа – это сплошной компромисс. И умение выбрать нужный тон. Он учит этому подспудно. Кто научился его слушать, тот слышит нечто более важное, чем чёткая актёрская задача в данной роли. У того, кто пока ещё не умеет этого делать, есть перспектива.
– Ваши коллеги говорили, что репетиции Петра Наумовича часто состоят из разговоров о театре, о своём месте в театре, о том, зачем люди этим занимаются. Это – особая метода?
– Такие репетиции бывают не всегда, иногда они очень конкретные. Порой на протяжении часа может отрабатываться одна фраза, одна интонация, потому что в данный репетиционный момент для Петра Наумовича – это самое важное.
– Одна из ваших партнёрш говорила, что репетиции отличаются от спектаклей тем, что на них можно пробовать и искать. Но на спектаклях бывает полёт, когда актёр, по словам Петра Наумовича, "говорит с Богом".
– Всё равно это бывает подготовлено репетициями. Любая импровизация должна быть отрепетирована, срежиссирована. Полёт и вдохновение приходят не всегда, а играть, создавать атмосферу всё равно надо. Когда нет репетиций, это плохо. Мы сейчас играем только старые спектакли, и они для меня начинают частично обесцениваться по той причине, что нет ничего нового. Только в репетициях можно что-то пробовать. На спектаклях пробуешь ограниченно, потому что в зале зрители.
– Вы сейчас воспринимаете театр иначе, чем в юности?
– С возрастом стало тяжелее играть спектакли. Но не потому, что физически слабее, а потому что больше выкладываешься. Парадокс: был молодой, больше по верхам скакал, а с возрастом начинаешь выкладываться "по сути". Сейчас невозможно в один вечер сыграть два спектакля, они не будут одного качества.
– Значит, "чёс" для фоменок невозможен по определению?
– Это будет не по-настоящему. И не потому, что мы не хотим, а потому, что это вредно для спектакля, да и для профессии. Сейчас уже начинаешь уделять время смыслу и каждому слову. И по-другому жить уже не можешь. Думаю, это даётся с возрастом и с опытом. Хотя убеждён, что некоторым молодым это дано от природы, у них есть интуиция. Я сейчас сужу по своим студентам: среди них есть очень талантливые люди.
– В канун юбилея театра самое время поговорить о ваших любимых ролях. Были ли среди них такие, что абсолютно совпали с вашим мироощущением?
– Вначале более всего совпадал шут из "Двенадцатой ночи". Сейчас – последние три работы: князь Болконский в "Войне и мире", Импровизатор из "Египетских ночей" (я только сейчас начинаю понимать его мысли и надеюсь, что уже стучусь в нужную дверь), и, конечно, все пять ролей в "Абсолютно счастливой деревне". Особенно санитар, который после смерти Михеева проклинает всю эту жизнь и "прекрасное" завтра. "Абсолютно счастливая деревня" близка мне не только по-актёрски (в этом смысле, наверное, ближе "Египетские ночи", "Двенадцатая ночь" и "Война и мир"), но и по духу. Когда мы сели читать прозу Вахтина, я понял, что почти так же вижу и так же мыслю. В этой работе мне хочется полностью растворяться. Она для меня основана "на кончиках пальцев". Удивительно трепетная работа. То, что Вахтин написал, а Фоменко взял, это подарок судьбы.
– Вам близка тема войны?
– Она мне очень близка, потому что война – это разрушение любви. Единственное, ради чего стоит жить, – ради любви. На любви был изначально построен наш театр. Может, это громкое слово, но я знаю, что потерять эту любовь для меня – всё равно что умереть. И то же самое в спектакле: там люди так любят, что, когда это пропадает, они умирают. Мне кажется, что этот спектакль об убийстве любви. О том, как убивают любовь, и как она возрождается с приходом немца Франца. Любовь здесь сплетена с военной темой. Для меня не было вопроса – "как сыграть". Главным было не упустить эту тему.
– Тема любви и смерти звучит во всех спектаклях Петра Наумовича. Но, наверное, эти чувства нельзя играть часто. Не возникает "усталость сердца"?
– Усталость возникает, и, если быть честным, случаются спектакли, в которых происходит небольшой "откат". Это было заметно на недавних гастролях в Европе, особенно, когда мы играли по пять спектаклей подряд. Мы живые люди, и нам, конечно, нужно время на восстановление. Скажу вам честно – иногда вообще не хочется играть: "Всё! Не хочу, надоело, устал! Я взрослый человек, мне уже почти сорок лет, а я выхожу, кривляюсь в каком-то парике". Но только дохожу до сцены, как что-то происходит, и начинаешь думать о другом. Мне повезло: тот мир, в котором я живу, – хорош. А есть ведь и другие театральные миры.
– Не стал ли для вас "другим" театр Прийта Педаяса, с ним вы работали над "Танцами на праздник урожая"?
– У нас не очень сложилась совместная работа. Прийт очень хороший человек, очень добрый, человечный, но мы с ним говорим на разных языках. Кроме того, у нас было мало времени, чтобы договориться. Он привык у себя в Таллине ставить по десять спектаклей за сезон, работать с актёром так: "Пойди туда, улыбнись здесь". А мы работаем по-другому. Но это не значит, что он плохо работает. Если бы мы заговорили на одном языке, спектакль мог бы получиться намного лучше, чем он есть.
– Вас как актёра заботит "производственная" проблема сроков и качества спектаклей?
– А как же! Это же театр, да и кушать мы хотим. Театр, помимо творчества, – это производство. Есть сметы на спектакли, ещё что-то. Я понимаю, что если заторможу, то подставлю всех. А ведь всё это стоит денег, нервов, чьей-то человеческой жизни. Стараюсь соответствовать тому производственному процессу, который необходим театру.
– Вас полностью устраивает система репертуарного театра?
– Да, безусловно. На Западе играть спектакль несколько лет – это нонсенс, такого не бывает. А у нас бывает, слава Богу. Поэтому мы растём, роли растут, и гурманам интересно, как через два-три года играется спектакль и данная роль. Становится ясно, умер ли спектакль или он превратился во что-то очень интересное.
– Вам не жалко ушедших спектаклей "Мастерской"?
– Я считаю, что хорошие спектакли должны уходить в самом расцвете. О них должна оставаться хорошая память. Так произошло, например, с "Двенадцатой ночью". Многие актёры в ней уже всё сыграли. Но это не исчезло. То, что я сыграл в шуте, проявилось в старом Болконском. Причём на другом, надеюсь, более высоком уровне. Поэтому не надо держаться за старое. Надо думать о новом и интересном. Что-то будет лучше, что-то хуже, но это неважно. Будет что-то другое. Вы же не будете всю жизнь спать в кровати, в которой родились.
– Но всё же, наверное, приятно будет встретиться со старыми спектаклями на фестивале?
– Конечно! Хотя это будет прощание с ними. Сыграем и "Двенадцатую ночь", и "Владимира III степени", и "Приключение". Правда, спектаклей запланировано мало, я представляю, какой будет ажиотаж. Но восстанавливаются не все спектакли. Это связано с декорациями, с костюмами и с другими проблемами.
– Думаю, что всем помнится ваше замечательное пение в "Двенадцатой ночи". Часто ли вы в последних работах обращаетесь к музыке?
– Дело в том, что у меня нет никакого музыкального образования, и это всё делалось со слуха. В актёрской профессии мне это часто мешало. В последнее время музыка только помогает, потому что я с ней вступаю в диалог, а порой и в конфликт. Тогда я могу из неё что-то вытащить. Она может быть поводырём, её нельзя игнорировать. И думаю, что это одно из важных приобретений, которое мне дал Пётр Наумович. Музыка может рождаться из актёра, она может прийти извне, ты её можешь родить и подарить кому-то. Пётр Наумович использует только хорошую музыку, и это счастье. Ведь подобрать музыку – это очень тяжёлая и кропотливая работа. Надо, чтобы она стала органичной, чтобы не выпадала из канвы спектакля и не подменяла актёра. Но есть и другая "музыка", такая, например, как капли, падающие в таз в "Войне и мире". Это всегда живой момент.
– Вернёмся, однако, к вашим последним ролям. Вы отнеслись к назначению на роль старого князя Болконского без колебаний и сомнений?
– Особых сомнений не было. Просто я не знал, как это делать. И не сразу выплыл на то, что сейчас есть. По-настоящему роль для меня состоялась во Франции, недавних гастролях.
– ?
– Пётр Наумович сказал одну фразу: "Надо успеть!". И всё встало на своё место.
– Честно говоря, меня поразил внешний вид Болконского. Поначалу было даже ощущение шаржа.
– Эта роль решалась в гротескном плане. А видели бы вы, что предлагал Пётр Наумович за столом и на репетициях! Это был просто "модерн"! Но за гротеском мы пытались увидеть суть этого человека. За гротеском скрыта внутренняя боль старого князя, неисполненные желания… И тогда становится понятно, что это не гротеск, а попытка не умереть, попытка "донести" что-то главное до окружающих. Его задача – успеть. В разговорах с сыном ему всегда не хватает этой минуты.
– Так что же произошло с "Войной и миром" во Франции?
– Спектакль без антрактов стал на двадцать пять минут короче. Представляете, трёхчасовой спектакль стал короче почти на полчаса! Третье действие сократилось на девять минут. И эта подвижка произошла не за счёт темпоритма или сокращения мизансцен, а за счёт спрессованности в отношениях людей. Мысли стали работать быстрее, лихорадочнее… Ушли "пустоты". Именно пустоты, а не паузы. И в моей роли тоже. Хотя иногда хочется ещё поиграть, постоять на сцене.
– Как прошли гастроли в целом? Как они повлияли на вас и, как вы считаете, оказали ли вы какое-то влияние на западную (и восточную) публику?
– Думаю, мы оказали серьёзное влияние, потому что я видел людей, которых это действительно взволновало. Некоторые после спектакля решили прочитать "Войну и мир". Если хотя бы один человек в зале: француз, японец или ещё кто-то, – захотел это сделать, я думаю, мы своё дело сделали. А я на третий день пребывания за кордоном начинаю мучиться. Прежде всего, потому что там нет репетиций.
– Да, это серьёзная проблема. Не менее сложной, думаю, была "привязка" спектаклей к местным условиям. У себя на Кутузовском вы играете "Войну и мир" на узенькой полоске, а там – залы на пятьсот человек. Не сложно было?
– Мы уже привыкли играть на разных сценах. Например, "Волки и овцы" игрались на таких сценах, что с ума сойти можно. Но, кстати, большинству наших понравилась большая площадка. Для "Войны и мира" это лучше! Я убеждён, что и для "Египетских ночей" это будет лучше. Мы же буквально зажаты в этом помещении. Вроде подписали бумаги, что к 2005 году должны построить здание. Там будет зал на 450-500 мест. К тому же рядом с нынешним, причём с подземным ходом. Дай Бог!
– Во время ваших гастролей до нас дошли слухи, что в Испании вас не очень хорошо приняли?
– Испания – не театральная страна. Там не ходят на драматические спектакли. Если ходят, то очень узкий круг людей, которым это интересно. У нас существует театральная культура. В Испании нет такой культуры. Там есть балет, опера, на это люди ходят. А драматического театра нет. Петер Штайн привёз туда очередной спектакль, и на него пришли 120 человек в 700-местный зал. То же самое было на последующих спектаклях. У нас на первый спектакль пришли те же 120 человек. Но принимали лучше, чем во Франции. Но на втором спектакле в зале было уже 250 человек, на третьем – 350. Испанцы считают, что если бы ещё два спектакля, то на него невозможно было бы достать билеты. Они сказали, что это огромный успех у публики, такого у них просто не бывает.
– А Япония? Говорят, что зрители там ведут себя довольно странно?
– Они абсолютно нормальные зрители. Тем более, насколько я знаю, для японцев, например, Лев Николаевич Толстой и Фёдор Михайлович Достоевский – это два самых великих писателя. Они считают, что эти писатели оказали огромное влияние на их культуру. Они их очень уважают, у них огромное количество переводов и они их действительно читают.
– Но ведь невозможно сделать перевод всего текста спектакля!
– Они давно отказались от синхронного перевода, потому что голос переводчика мешает воспринимать общую сцену. И у них существует своя особая культура восприятия.
– Года два назад, когда застопорился вопрос с новым зданием, Пётр Наумович в сердцах сказал, что "Мастерская" будет базироваться за границей. Вы могли бы существовать вне России?
– Ни в коем случае! Потому что там другой зритель, и он рано или поздно всё равно переделал бы нас. Там лучше в плане бытовых условий, поскольку всё предусмотрено для людей. Но там другой образ мыслей, другие потребности. А я вырос здесь. Родной язык – русский, культура русская, менталитет российский. И друзья, родственники, родители – здесь. Бежать куда-то ради сытного куска?! Это глупо и быстро надоедает. Есть люди, которым этого достаточно, и они там себя хорошо чувствуют и живут. А иным жизнь там, как кость в горле. Им тяжело оттого, что они там никому не нужны. Мы там нужны, когда мы приезжаем с гастролями. Не дай Бог, если мы останемся. Тогда мы у кого-то отнимем кусок хлеба. И тогда – "человек человеку волк". И нас уничтожат легко и быстро.
– Последний ваш персонаж оказался в чужой стране, где образ мыслей, наверное, тоже ему чужд. Легко ли вам дался Импровизатор из "Египетских ночей"?
– Последняя работа всегда самая трудная. Когда спектакль выпускался, у меня было ощущение полной катастрофы. Я не мог собрать роль, не мог понять образ и ход мыслей персонажа. Только в последнее время потихоньку, не спеша всё стало увязываться. Роль состоит из двух больших импровизаций, и в них надо было вместить историю человека, чужестранца, итальянца в России. Он никому не нужен: поэт – не поэт, оборвыш, говоря современным языком – настоящий бомж. Живёт в трактире, у него ничего нет, даже еды иногда. Он жаден до денег, любит женщин. Но есть в его жизни моменты святой импровизации, моменты вдохновения, творчества. И мне кажется, я начал потихоньку приближаться к нему, понимать его принцип существования в этой жизни. Даже не его, а именно мой – в предлагаемых обстоятельствах. Я представлял себе, как я, попав в другую страну, вёл бы себя, что бы делал, как выживал.
– Наверное, это очень сложно: сыграть импровизацию?
– Да, это очень тяжело. Фома предложил сыграть "рождение импровизации". Мы называем эту сцену "корчи". Она иногда получается, иногда нет. Когда это совсем не получается, знаю только я сам.
– Может ли в рамках импровизаций пушкинского Импровизатора существовать импровизация актёра Бадалова?
– Конечно. Я имею право предлагать и делаю это. Если по Пушкину, то приезжает итальянец и импровизирует на тему Клеопатры и её любовников. Но там тема гораздо глубже: может ли кто-нибудь за ночь с этой женщиной отдать жизнь. Тема импровизации именно эта: "ценою жизни". Мне думается, что часть публики старается не думать на эту тему, делает вид, что не слышит. (Смех).
– Сейчас я вам задам вопрос, а вы сделайте вид, что не слышите: если бы вас поставили перед Клеопатрой и перед этим выбором, как бы вы поступили?
– (Замешательство). Это хороший вопрос, но ответа не знаю. Иногда появляется желание поступить так, как поступили эти три любовника, которые пошли на смерть.
– В вас есть авантюрная жилка?
– Есть.
– Вас в последнее время стали снимать в кино. Принесли ли эти работы радость?
– Было всякое. В "Дальнобойщиках", например, работа не принесла удовлетворения. Когда я попал на площадку, понял: то, чего от меня хотят, сделал бы любой человек вообще без актёрского образования. Но были и интересные работы. Вот, например, последний сериал, в котором я снимался у Александра Орлова. Его рабочее название "Хроника любви и смерти". Я там сыграл Лорис-Меликова, последнего премьер-министра. И несмотря на то, что это – сериал, было интересно работать и с режиссёром, и с питерскими партнёрами.
– Вам пришлось поработать и с Грымовым в "Коллекционере". Как там складывалось?
– Грымов на меня произвёл очень сильное впечатление. При всей его внешней бравурности он человек талантливый. Где-то ему не хватает примитивных навыков режиссёрской работы с актёрами. Но это удивительный человек, он шикарный организатор. Таких людей очень мало. Когда его вконец допекали, он злился и находил правильные слова. Я завидую ему в одном, он делает то, что хочет. А это дорогого стоит. Он захотел этот сценарий поставить, он это делает, набирает тех актёров, которых бы он хотел видеть. Он построил те декорации, которые ему понравились. И он снял, может быть, не совсем то, что хотел, но то, что ему близко.
– Вы избалованы хорошей режиссурой. Наверное, творческое общение с менее талантливым человеком должно вызывать у вас если не отторжение, то иронию?
– Не талантливых нет, есть менее опытные. Могу честно сказать, что работать с молодыми режиссёрами я бы не очень хотел. Я не говорю, что они менее талантливые, но эта профессия эмпирическая, здесь нужен опыт.
– А вы сами не хотите себя попробовать в режиссуре?
– Нет, это другая профессия. Я могу быть педагогом, во всяком случае, стараюсь им быть. Пока я неопытный человек в этом плане. Но режиссёр – это другая профессия, это другой образ мыслей, другое существование. Мне интереснее быть актёром. И зачем мне быть режиссёром, когда дай Бог, чтоб каждому повезло играть такие роли. Актёры часто идут в режиссуру из-за неудовлетворённости. У меня такого нет.
– Однажды в нашей беседе вы мечтали о "Трёх сёстрах". Воплотится ли когда-нибудь эта мечта?
– "Три сестры", скорее всего, состоятся, и будет это не далее, чем через год. Эту работу Пётр Наумович посвятит, как он говорит, "старикам". Но будет и "Бесприданница". Это для молодых.
– Вы как-то рассказывали, что ваш отец – творческий человек, кинооператор. Он доволен работой сына?
– Да, он очень рад, гордится мной и часто бывает на моих спектаклях. Он не показывает эмоций, он очень сдержан, но я чувствую, что ему это безумно нравится. А остальные члены семьи ходят, когда я их приглашаю, но на "Войну и мир" ещё не приходили. Я думаю, что ещё рано.
– Два года назад вы просто светились, когда говорили, что стали отцом. Сейчас вы тоже светитесь, только более солидно, более уверенно. На вас как актёра влияет то, что вы всё больше и больше утверждаетесь в роли отца?
– Конечно, влияет. И в лучшую сторону. Это живой человек, он не обременён никакими клише, у него нет комплексов, я ему завидую. У него всё впереди.
Беседовал Павел Подкладов
"Экран и сцена", №8, 2003