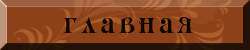

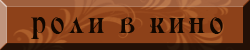
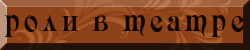


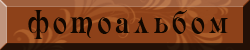

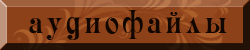


Четыре диалога в мастерской
Нынешней весной исполнилось 10 лет со времени создания театра "Мастерская Петра Фоменко". Вряд ли найдётся театр, о котором пишут больше и охотнее. В статьях – попытки осмыслить внутренние законы этого театра, запечатлеть мир ускользающей красоты, зыбкой гармонии, мерцающих смыслов, желание уловить то, что именуется "стилем Фоменко".
Конечно, каждый театральный человек знает, что "школа" – это процесс живой, подвижный, зафиксировать который практически невозможно. Поначалу была идея проникнуть в "святая святых" – кабинет главного режиссёра, описать, так сказать, "один день Петра Наумовича". Но из затеи этой ничего не вышло. Театр существует в "закрытом режиме", на репетиции чужих почти не пускают. Сам ПН интервью дает редко, словно боясь разменять что-то в словах, ненароком разрушить годами наживаемую атмосферу в театре. Возникла идея "пойти другим путём" и подключить к размышлениям "коллективный разум", недаром же его студентов называли "головастиками". Понятно, что все предложенные вопросы вертелись вокруг одного и того же. Поразительно, что ответы в чём-то главном неизбежно совпадали. Общность видения, оценок, пристрастий идёт ещё из гитисовских времён и определяется единым "генетическим кодом" Мастерской.
Карэн Бадалов
– Существует ли, на ваш взгляд, понятие "Школа Фоменко"? Если да, то каковы её основы?– В основе – понятие слова и отношение к нему. Это для ПН главная вещь при всём блеске формы, которую он обожает. Он же формалист (в хорошем смысле), хотя принадлежит к русскому психологическому театру. Понимаете, сколько бы я ни встречал режиссёров, работая с ним, я вновь убеждаюсь: самое главное в этой профессии – научиться разбирать текст. Правильный разбор зачастую определяет успех. Дальше уже постановочные трюки, эффекты, режиссёрский вкус и направление. Но здесь основа всего.
– Мне кажется, его любимое слово – "подробно"…
– Да. Он воспитывает тягу к филигранности. Вкус к мелочам. Хорошо, чтобы каждая мысль, каждый поворот, секунда жизни на сцене были бы по поводу чего-то или кого-то, когда нет необязательности существования. Чтоб были паузы, но не было пустот. Смысл в том, чтобы, грубо говоря, понять: по ком звонит колокол? Кто объект?
Но в целом, поймите, просто невозможно проанализировать его метод на все 100%, это нереально. По-настоящему понять его можно только в работе. Вот я вам всё это опишу – и всё будет неправда. И он первый это разрушит, опрокинет. Потому что без этих самых эфемерно-ускользающих вещей, без этой вязи, атмосферы – нет театра Фоменко. Он обожает игру атмосфер на сцене. Он музыкант и, более того, скрипач. А скрипачи ведь все "слухачи". Он очень много воспринимает на слух и иногда не смотрит, а слушает спектакль, а потом говорит, что получилось, что нет, кто как играл…
– Как объяснить тот факт, что каждый курс Фоменко по сути уникален? Что ни актёр – то личность?
– Он это видит уже при наборе. Но как он это видит, я не знаю. У него… особый дар проникать в индивидуальность, интуитивное начало. Ну, как он набрал наш курс? Курс, где два человека, я и Юскаев, были уже с высшим образованием, Галя Тюнина после училища уже успела поработать два года у Дзекуна, Юра Степанов закончил Иркутское училище. Ведь все боятся набирать взрослых, это люди уже сложившиеся, что-то прочувствовавшие. Он этого не боится, потому что не ломает человека, не подминает его под себя, а предлагает определённые пути. Так и педагогов курса он не подминал под себя. Или другое – как он разглядел сестёр Кутеповых в 16 лет, когда ещё вообще не было понятно, что из них будет…
– Если касаться каких-то общих вещей, мировоззренческих – есть ли у театра кредо, так сказать, символ веры?
– Я думаю, что есть. И это, прежде всего, демонстрирует репертуар. А в институте на любом показе он говорил нам о вещах, связанных со вкусом – вкус к слову, вкус в профессии. В любой работе, неважно с кем – это не должно изменять. Он позволяет нам работать на стороне, в кино, антрепризах, но всегда говорит – не вляпайтесь, не лезьте в чернуху, после чего долго будете отмываться.
– А есть ли у него какие-то универсальные приёмы в режиссуре, работе с актёром? Или каждый раз материал диктует?
– И то, и то. Он старается каждый раз идти от автора. Понятно, что у него есть и определённые приёмы, и вроде мы их знаем, и мне кажется, я могу определить, какая интонация ему будет нужна… Но мне так только кажется! Он мгновенно всё изменит. У него основной принцип – всё время искать что-то новое. Не рассиживаться на том, что нашёл.
– Название Мастерская себя оправдывает?
– В чём вообще принцип мастерской? Там всё время что-то ремонтируется, пересматривается. Боязнь омертвелости, канона. Мы всё время возвращаемся к выпущенным спектаклям – вот то, что как раз отличает наш театр. Скажите, много ли найдётся театров, где спектакль, который играется уже 10 лет, будет репетироваться заново? Я таких примеров не знаю. Фома смотрит спектакль и говорит: "Вы стали формально играть". И мы опять возвращаемся за стол и начинаем вспоминать смысл слов, который, оказывается, уже немножечко "замылен". Это и есть принцип Мастерской. Просто это наша внутренняя работа, скрытая, мы её никому не демонстрируем. На репетиции людей не пускаем, потому что тогда возникает ощущение показа. А все хотят узнать, как это у них там всё происходит. Зачем? Это всё равно что лезть в постель… Потом, понимаете, у нас театр, где можно попробовать. Кроме Каменьковича, Женовача, Поповски здесь ставили многие режиссёры, и были работы, которые не выходили на публику. И мы не видим в этом ничего странного, при том, что театр вкладывает деньги. У нас нет художественного совета, но есть стиль театра, определённая планка. Это планка в нём самом, и решать только Фоме, что имеет право на существование, а что нет. Ведь он позволял играть здесь и студенческие спектакли, которые отличаются по уровню и способу актёрской игры. Потому что понимает: всё время нужна свежая кровь.
– В вашей творческой жизни были моменты несостыковки со стилем театра? Усталость от поисков театра в определённом направлении?
– Знаете, этот момент есть всегда. Такие вещи связаны, прежде всего, с поиском своего места в жизни, в искусстве. И собственную усталость нужно уметь отделять от состояния театра. Я не думаю, что театр пришёл к какому-то этапу, периоду подведения итогов. Ничего подобного. Кризис "среднего возраста" для нашего театра уже состоялся. И мне теперь кажется, что мы быстрей прошли все этапы становления театра. И вроде бы должен начаться и кризис во взаимоотношениях с ПН. Но – удивительная вещь – за последние три года эти взаимоотношения (я, прежде всего, про себя говорю) вышли на гораздо более серьёзный уровень. Мы стали другими, и он это видит и ставит перед нами более глубокие задачи.
– Кстати, о необходимости каких-то трансформаций говорит в последнее время и критика.
– Дело даже не в том, что об этом говорит критика, а в его собственном ощущении. Он всё время говорит, что нам нужно сыграть трагедию. Надо искать её в репертуаре. Хватит играть в "поиграшки", нужен иной виток. Всё равно наш весёлый воздух никуда не денется. Лёгкость никуда не уйдёт. И ещё я знаю, что компания людей, которая собралась в нашем театре, может всё. Каждый по отдельности – нет, а все вместе – не сомневаюсь. У меня ещё другое наблюдение: люди с трудом выносят, когда где-то всё хорошо. Почему-то всегда все ждут развала, хотят скандала. Но кто хочет провала и ждёт его – пожалуйста. Все спектакли ПН на премьере можно назвать провальными, потому что по-настоящему спектаклями они становятся только к десятому показу, когда появляется филигранность, исчезают белые нитки. Он очень много пробует, очень сложные ставит задачи, сразу решить их невозможно. Зато есть что осваивать.
– На посторонний взгляд, ваш театр – идеальное сообщество, где все настроены в унисон…
– Это во многом заслуга ПН. Вообще работать с ним могут только близкие ему по духу люди. В другом случае им будет тяжело и даже муторно, многое они воспримут как насилие над собой. Но я-то воспринимаю это не как насилие, а как предложение, хотя он бывает очень несдержан и даже жёсток. Но бывает и мягок. Просто он требует такого же отношения к делу, что есть у него самого. Понимаете, он создал этот театр и очень боится, что театр внутренне рассыплется. Он понимает, что соединить людей можно только работой. И до сих пор он относится к нам как к студентам, своим ученикам, размышляет над тем, что нужно каждому для роста, развития. Ничего не знаю про "идеальность", но в нашем театре, что тоже редкость, отношение к делу ничем не замутнено – ни деньгами, ни личными взаимоотношениями. Мы тоже очень боимся потерять наш театр. Я знаю, что какие бы прекрасные условия в другом месте ни были, сколь великие артисты ни играли – такого не будет. Это уникальный во всех отношениях вариант. И потом ты уже всё равно на других людей, на режиссёров смотришь сквозь призму Фомы…
– Какой-то пропасти – возрастной, ценностной – не чувствуете?
– Такого рода пропасти нет. Есть пропасть другая. Я чувствую, что в сравнении с ним в какие-то моменты я просто человек необразованный. И дело ведь не только в количестве прочитанного, увиденного. Он пришёл к состоянию мудрости. Он видит дальше нас и всему знает цену. В центре его спектаклей…
– Всё-таки любовь?
– Конечно. Любовь. Потеря любви. Он очень хорошо ставит про любовь. Он всё про это знает…
Мадлен Джабраилова
– Существует ли, на ваш взгляд, понятие "Школа Фоменко"? Если да, то каковы её основы?
– Школа – это только ПН и команда абсолютно разных людей, которую он собрал. Я думаю, это так же, как система Станиславского: только из рук в руки, только живое общение, личность.
– А что касается педагогических приёмов Фоменко? Что тут главное?
– У него абсолютно индивидуальный подход к каждому. Он видит актёра, студента как бы в проекции, в потенциальных возможностях, о которых тот иногда даже и не подозревает. Он размышляет о каждом: когда попридержать, чтобы что-то накопил, когда выдернуть и попробовать в неожиданном качестве, чтобы не складывалась инерция восприятия актёра. И ещё у него очень развит интуитивный дар. Интуиция его иногда для нас мучительна. Он отвечает на то, о чём ты даже ещё не спросила.
Через актёров он всё время что-то проверяет в себе, свои сомнения, догадки. Меняется сам, и вместе с ним мы тоже начинаем меняться, искать. В общем, тут педагогический подход всегда смыкается с режиссёрским. Он не всегда впускает в свою "кухню", а иногда просто жёстко ведёт и предлагает своё решение. И может предложить решение настолько странное, что поначалу ничего, кроме отторжения, недоумения, оно не вызовет. И всё-таки веришь ему безоглядно и в итоге через огромное сопротивление понимаешь правильность его взгляда. И тогда уже начинаешь не с ним общаться, а с ролью, играть с ней, поворачивать. А он ждёт очень терпеливо, пока наиграешься. Хотя может и отступить, если видит, что это тебе никак не близко.
– Как вам кажется, существует ли такое понятие – "фоменки" или это всё критики придумали?
– Я сама об этом много думаю, что это за природа актёра, которая близка ему и всем нам?
Понимаете, так как в его собственной природе заложен парадокс, он, видимо, и делает ставку на такого рода артистов. Ему всегда интересен контраст в артисте, зигзаг, алогичные, прихотливые линии. И стихия игры и иронии ему тоже очень близка, лёгкость игры, когда ты тяжесть не выражаешь, а преодолеваешь. Когда возникает лёгкое дыхание в самые, казалось бы, трагические моменты. Ему очень интересен контрапункт в игре актёра. Быстрые переключения из тональности в тональность.
Он очень жёстко учит профессии, и какие-то профессиональные вещи в нас просто вбиты. А дальше – уже твоё дело, как ты начнешь это тратить. Но он всё время держит нас в напряжении, всё время воспитывает понятие ансамбля, общего дела. Спектакль для него как симфония.
И ты должен понять, что, если вносишь в спектакль даже микродозу, но делаешь это точно, для всех остальных это победа. Хотя всё дается нелегко, всегда спотыкаешься и всегда ощущение непобедности. И я удивляюсь, когда слышу о лёгкости и воздушности спектаклей. Каким неимоверным трудом достигается эта "вольнодумная глубина", как он любит повторять! И ещё мы всё время от него слышим: "Не верьте успеху и не верьте неуспеху. Истина всегда посередине".
– Этот процесс поисков заранее задан или возникает спонтанно?
– Это очень сильно зависит от его внутреннего состояния. Он очень чувствительный человек, и его вдохновение зависит от множества причин. Иногда на репетиции он заходит в тупик, ничего не может сделать, и все расходятся в ужасе, в ощущении катастрофы. А в другой раз у него такой фонтан энергии, что он готов прыгать как ребёнок, показывая, залезает на столы и стулья, и мы его стаскиваем обратно. Он, конечно, очень в этом заразителен. Что меня всегда в нём поражало, это его абсолютная детская открытость, незашоренность. Он говорит, что всё время учится у нас и истины не знает.
– Начиная репетировать, загружает ли он вас какими-то общими задачами или не посвящает в свои замыслы?
– Он репетирует иногда очень странно. Это, наверное, можно отнести к его школе.
Он может начать говорить не о действии и задаче актёра, а о чём-то постороннем – о людях, встречах, прежнем своём опыте, может всю репетицию потратить на эти рассказы, но в итоге постепенно, изо дня в день всё это перемалывается, собирается в актёрскую копилку, нужную для спектакля. То есть всегда это не жёсткий технологический процесс, а нечто большее – загружение нас каким-то опытом – жизненным, профессиональным. Он учит смотреть на мир, запоминать, хотя сам всегда говорит: "Я не педагог. Научиться вы можете только сами". Получается как бы прививка вкуса, обмен взглядами на жизнь, на эстетические проблемы. Для него главное – разбудить фантазию актёра, ему необходим диалог. И поэтому на первых порах ему важна не мизансцена, не жёсткий рисунок роли, а совсем другое: создать мир, атмосферу. Это, кстати, очень важно для него – атмосферная репетиция. Ему нужно, чтобы в ходе репетиций режиссёр действительно умирал в артисте. А когда артист не включается, когда не происходит чуда жизни на сцене, он говорит: "Что я вижу? Я вижу плохую фоменковскую режиссуру, я не вижу артистов".
Возникает голая схема, а он такими рациональными построениями никогда не руководствовался.
– Что такое для вас 10-летний юбилей Мастерской?
– Если бы об этом сейчас не говорилось, я бы и не почувствовала. Когда попадаешь к нам в театр — время останавливается. Кстати, по-настоящему это всё-таки пятнадцатилетний возраст. Когда мы только открывались и искали название (я сейчас вспоминаю, как отчаянно упирался ПН: "Не называйте театр моим именем, я не смогу работать в театре имени себя". Но мы буквально заставили его это сделать. А что может быть другое?) – мы, прежде всего, были нацелены на результат, упрямо делали спектакли. И права на ошибку не было. А сейчас наступило время поисков в разных жанрах, стилях. Сам ПН, дай ему волю, репетировал бы годами, ему интересен, прежде всего, процесс. Тем более что в последнее время он всё больше говорит о необходимости перехода, экспериментального пути. Это не значит, что в корне изменится язык, просто усложнятся задачи.
По-прежнему его очень заботит "команда". Я вообще не знаю, насколько каждый из нас представляет интерес и может по отдельности продолжить школу Фоменко… Он очень оберегает атмосферу в театре, следит за взаимоотношениями. Он всегда говорит: "Берегите себя. Берегите театр. Сюда вы будете приходить зализывать раны". И это действительно так, я в этом убеждалась не раз. Наш театр – Дом. Это безусловно. Возникает такой семейный подход, когда слова между нами уже становятся необязательными. Важнее взгляд, интонация. Может, всё это и приводит к тому эффекту, который иногда видят в нашем театре и на спектаклях, и на репетициях.
– С другой стороны, путь абсолютной жертвенности, самоотдачи, который он предлагает, – не обременительно ли это в наше время?
– Мы к этому привыкли. А для чего нужно себя беречь?
Если говорить о ПН, я думаю, он сам этой ответственностью за театр, за нас всех иногда тяготится. Он человек свободолюбивый. Но как замечательно знать, что всегда можешь прийти к нему в кабинет (так называемый, он же библиотека), и он как отец будет с тобой возиться, разбираться в твоих сложностях! В общем, я благодарю судьбу за то, что всё так сложилось, хотя понимаю, что, находясь внутри, по-настоящему ты это "семейное счастие" оценить не можешь.
У него есть "воздух восприятия". Он способен подняться над ситуацией и отнестись к ней мудро, с иронией. Он обожает жизнь во всех её поворотах, умеет радоваться ей и внушать нам, что она прекрасна. Горька, но прекрасна.
Кирилл Пирогов
– Существует ли, на ваш взгляд, понятие "Школа Фоменко"? Если да, то каковы её основы?
– Всё то, что можно назвать "школой", я думаю, на самом деле очень эфемерно, не опирается ни на какие теоретические законы. Это только ПЁТР НАУМОВИЧ ФОМЕНКО. Школа – это, прежде всего, мироощущение, мировоззрение и, соответственно, отношение к театру компании близких людей. Но нам изнутри всё это достаточно трудно понять, нам трудно с чем-то сравнивать. Мы живём такой полузакрытой жизнью.
– Как режиссёр он жёстко работает с актёром или его способ больше рассчитан на импровизацию, мгновенный отклик?
– Знаете, всё, что только можно представить, – всё это происходит у нас на репетициях. Все мыслимые и немыслимые пути, способы работы режиссёра с актёром. Канона никакого нет. Каждый раз это происходит по-разному, зависит от артиста, от конкретной ситуации. Всегда есть только его огромный опыт, невероятные умения. Его любимое слово, например, интонация. В театральных школах всегда учат: только не интонируйте, не красьте интонацией. А у него наоборот – можно и нужно. Счастье в театре Фоменко и наше счастье одновременно в том, что заданности не бывает. Всё неоднозначно и внутренне противоречиво, сложно, текуче… Он непредсказуем. Это, может быть, одно из его главных качеств – непредсказуемость, алогизм в хорошем смысле в подходе к роли, к спектаклю. Мы никогда не знаем, что будет завтра.
– Он касается каких-то глобальных, общих тем или это в основном производственные вопросы?
– Прямо он никогда об этом не говорит. Но это всегда стоит за тем, как он репетирует, как формирует репертуар. Здесь всегда планка нравственного, культурного отношения, безусловно. Ему важно, чтобы люди всё время продолжали учиться, и в покое он нас не оставляет. Лично для меня это самое грандиозное, если говорить пафосно.
– В этом смысле название Мастерская себя оправдывает?
– Действительно, есть принцип постоянных проб. Окончательности, утверждённого раз и навсегда результата не бывает. Каждый спектакль может принести что-то новое. Он во многом доверяет артистам (редкое, кстати, режиссёрское качество), в этом, наверное, и состоит особенность его метода: центр тяжести в его спектаклях переносится на артиста. Не всё: есть некая тонкая природа сценического действия, есть музыка, всегда замечательная, декорации, костюмы, и всё-таки главное – артист. Бывает, что ты этому доверию не соответствуешь: можешь не дотянуть – упасть. А спектакль покачнётся, но не упадет, потому что внутри, несмотря на всю хрупкость, довольно прочная конструкция. Чтобы этого не происходило, ПН настраивает нас на то, чтобы каждый раз перед спектаклем заново проходить всё по внутренней линии.
– Есть что-то особенное, что вы цените в работе с ПН?
– Знаете, превозносить его бессмысленно. У нас в театре вообще не принято говорить всё это. Театр – живой. И это самое большое счастье, которое у нас есть благодаря ему. У нас всегда присутствует дух школы, студийности, и ни в одном другом театре у нас бы не было таких ролей, таких спектаклей. И я думаю, все это понимают. Главное, что нам интересно, радостно с ним работать, учиться у него, жить рядом. И никогда не возникает даже потребности с чем-то ещё сравнивать. Вообще нет такой задачи, необходимости завоёвывать кого-то. Это бессмысленно – быть первыми или последними. А что касается итогов, то их надо подводить, когда всё кончено. А мы надеемся, что-то есть ещё впереди…
Галина Тюнина
– Существует ли, на ваш взгляд, понятие "Школа Фоменко"? Если да, то каковы её основы?
– ПН никогда не называет наш театр школой. Никогда словесно не определяет метода работы с артистами. И никогда не называет себя учителем. Ведь каждая школа сразу ставит рамки, ограничения: можно-нельзя. У нас всё происходит более свободно. Легко, непредвзято. Хотя школа, наверное, всё-таки существует. Она, конечно, заключена в личности ПН. В его открытости всему, в постоянном желании что-то менять, впускать в себя живое.
– Вы имеете в виду поиски нового сценического языка?
– Поиски вообще в области театра, театра, который даёт свободу мысли. Свободу сознания, проявления…
– И всё-таки такое понятие, как "фоменки", на ваш взгляд, существует?
– Конечно. Но, понимаете, это не внешние черты. Специфика, конечно, есть, но на каком-то другом, чувственном уровне. Это не поддаётся рациональному анализу. Я назову, например, склонность к импровизации. Но у нас есть актёры, которые очень не любят импровизировать, у которых это вызывает панический страх, и я одна из них. Иногда эту общность определяют как стихию игры, и это правда. Особенно так было сразу после института. Это во многом был театр, где взаимоотношения строились на игре, и уже из игры возникало ощущение театра. Игра как шутка, игра как ирония. Ирония к самим себе, к жизни, где всё подвергается сомнению и одновременно непреложно. Где можно за внешней шутливостью найти вдруг что-то серьёзное, прикоснуться ко всему, ничего не исчерпывая. Это было, мы получали от этого удовольствие. Но сейчас я не могу сказать, что это метод театра. Тот же ПН со мной не согласится. Последнее время он говорит с нами о театре открытых энергий, о театре трагедии, о том, что трагедия как чистый жанр себя исчерпывает, видоизменяется, ищет себя на стыке жанров. И что даёт такое право – играть трагедию, как артисту открыть в себе энергию потрясения. Но, с другой стороны, ощущение высокой трагедии вторым планом, изнутри присутствует во всех его спектаклях, не видеть это странно…
– Не возникает ли иногда в вашем театре момент непонимания поколений? Принято считать, что для молодых характерно априори тяготение к авангардному языку?
– Лично мне это неинтересно. Хотя я признаю авангард, смелые решения. Я здесь, наверное, многое не умею, могла бы овладеть – но, честно говоря, потребности нет. Это ведь во многом – внешняя форма, а менять цвет, потому что так модно сегодня, – бессмысленно. Я хочу сказать, что если вы идёте к ПН в театр, не надейтесь на то, что там будет что-то внешне замысловатое, "навороченное". У нас простой свет, простые декорации. Ничем внешним ПН не увлекается. И не потому, что… не может – не хочет. Неинтересно уже. У него душа направлена совсем на другое. Он, как Брук к концу жизни, готов заниматься другим театром, где всё только в актёре, через актёра. В молодости волнуют масштабы: там масса людей, здесь что-то происходит… А он теперь – посмотрите, как интересно, – уходит всё глубже и глубже, сужает круг интересов. А главный интерес – человек. Ведь настоящее углубление и всеобщность всегда сводятся к единому, уникальному. К наблюдению космоса в душе. Мне кажется, что это и есть современность – это просто неизменно. Меняются поколения, моды, театральные направления… А тот, кто владеет этим языком, тот владеет ситуацией. К этому всегда будут поворачиваться, это всегда будет цениться.
А в смысле возраста… Он моложе всех нас. Мы иногда выглядим большими консерваторами, чем он. Он до сих пор поражает своим умением рисковать, жаждой каких-то непознанных вещей.
– Что вам больше всего интересно в режиссуре Фоменко, что формирует вас как личность, актрису?
Режиссура Фоменко – это режиссура, которая абсолютно выявляет смысл. Его идеал – когда совсем не видно режиссуры. Всё идёт от автора. Он всегда даёт возможность попробовать во всех направлениях, экспериментировать и терпеливо ждёт, пока мы, наконец, успокоимся, отработаем весь этот "шлак" и вернёмся к смыслу происходящего, к тексту. Чтобы совместно искать, разбирать его внутреннее устройство. И у него самого в процессе работы каждый раз заново складывается история взаимоотношений с автором – восхищение, разочарование, полное непонимание… Ближе к выпуску спектакля он убирает все подпорки из-под артиста (это может быть музыка, что-то ещё). И это верно. Артист должен держаться как бы в воздухе и пытается это делать, потому что ПН умеет подталкивать актёра к тем вещам, которые всегда за тем, что видимо, за оболочкой. Какие-то токи, тонкие поля, область смутно различимого, желаемого. И в этом, повторяю, всегда умение и способность рассказать историю человеческого духа, то профессиональное умение, которое сейчас из театра всё больше уходит.
– Выдерживают ли ваши спектакли испытание большой сценой, совместима ли с ней эстетика камерного спектакля?
– Это эстетика не камерного спектакля – интимного. А камерная форма – вынужденная. У нас нет большой сцены, отчего очень страдает и сам ПН, и все мы. И когда она возникает на гастролях, это, конечно, усложняет задачу, но даёт спектаклю новые импульсы. Потому что все спектакли Фоменко рассчитаны на пространство. Он обожает его менять, и в новых условиях оно может быть любым – косым, квадратным, вертикальным, горизонтальным. Безумно переживает, но испытывает восторг всякий раз. Он ведь режиссёр-постановщик. Любит играть пространствами, звучаниями, людьми. Любит маленький, камерный спектакль бросить на огромную сцену, а крупный, постановочный – попробовать в негромком звучании. Но вот ещё один, уже сегодняшний поворот: последнее время он всё время говорит о молчании. "Возьмём сейчас "Три сестры", соберёмся и промолчим весь спектакль. Я хочу, чтобы мы прошли только по ремаркам. Прочитали ремарки". Как это понять?
Знаете, у Елены Камбуровой есть песня о "тени звука". Она поёт так, что это уже не сам звук, а нечто… Она вытаскивает из него эту тень, грань. У него тоже есть эта тень, дематериализация достаточно грубой фактуры театра. Тень театра, тень жизни… То, что можно почувствовать и сложно выразить. Хотя, если бы ему мы об этом сказали, он бы очень напрягся. Он слов не любит. Не любит. Потому что много за ними видит, очень их чувствует и боится стёртости. Для него есть ответственность слова: или что-то вообще не произносить, или – идти дальше. Он и в театре часто молчит. Но это – звучащее, значащее молчание.
– На каком витке ваши творческие взаимоотношения сегодня? Не тяжела ли модель Театра-Дома?
– Я могу сказать только одно: если сейчас попытаться разорвать их – будет кровь. Мы не срослись даже, это что-то другое… Семья. Хотя это не только личностные отношения, в них есть что-то большее. Но – это любовь, безусловно. Я не знаю, звёзды ли сошлись, Фома ли воспитал так, подсказал, но в наших отношениях пятнадцать лет назад была, действительно, заложена любовь, исключающая очень многие вещи, характерные для театра, – интриги, сплетни. Наши конфликты всегда были ниже, чем, скажем, моё чувство к партнёру. А отношения с ПН – это отец и дети. А в семье всё бывает. Дети раздражают родителей, родители – детей, и тогда возникает потребность разрыва, потом дети возвращаются. Все плачут. Возвращение блудного сына – вечный сюжет. Любой разрыв ощутим до костей, мы чувствуем друг друга на уровне вибраций.
Но сильно любить и быть привязанным – это, конечно, болезненно. И мы являемся для него не только радостью, но и мучением. Он порой говорит: "Я боюсь вас больше всего на свете". Я понимаю, что есть открытость какая-то и от неё можно уставать. Проникновение друг в друга, и он как будто внутрь тебя смотрит. Его не обманешь. И даже думаешь, что и играть-то перед ним странно, что-то изображать. Зачем? И в то же время ему с нами легче, мы способны сглаживать углы, он часто бывает благодарен за то, что мы не задаём вопросов. Мы просто чувствуем его. Чувствуем, в каком настроении он пришёл и как пойдёт репетиция. Я думаю, это умение – не задавать вопросов – дорогого стоит. И в жизни, и в театре. Не пытаться расставить все точки над "i". Не подвергнуть всё сомнению… а подождать. Что-то потом додумается, что-то откроется, и пусть это будет нелогичный путь. И он нам доверяет и допускает, что у спектакля после выпуска может быть уже своя судьба. И изменения могут быть в лучшую сторону. Словом, людям со стороны, которые приходят в наш театр, всё это довольно сложно понять.
– Один из учеников ПН как-то сказал, что его театр "про восторг жизни". Вы бы согласились с этим?
– Восторг жизни? Мы в "Войне и мире" поём песенку: "Восторг любви лишь миг один, любви страдания удел целой жизни". Скорее так. И всё-таки, если говорить о театре ПН, можно сказать одно – он светлый.
"Петербургский театральный журнал", №33, 02-2003