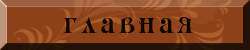

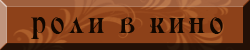
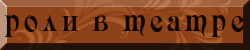


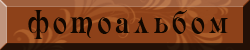

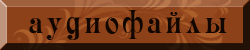


Карэн Бадалов: "В своём доме можно зализывать раны"
Актёрская индивидуальность Карэна Бадалова, пожалуй, не вполне вписывается в атмосферу лёгкой студийной иронии, царящей в большинстве спектаклей "Мастерской Фоменко". Его желчные, холодновато-надменные и остроумные герои: будь то шут из "двенадцатой ночи" или Шпигельский из "Месяца в деревне", - порой находятся как будто над действием, наблюдая за ним со стороны.
В последней работе – спектакле "Одна абсолютно счастливая деревня" – актёр делает попытку уйти от устоявшегося амплуа. И это ему с блеском удаётся. Пять его эпизодических ролей явили нам совершенно иного Карэна Бадалова: трогательного, печального и мягкого.
Меня очень порадовало состояние, в котором пребывал мой vis-a-vis во время нашей встречи на Кутузовском проспекте. Он позволил себе помечтать вместе со мной о "Трёх сёстрах", где он видит себя отнюдь не Солёным, а Тузенбахом. Ну что ж, всё хорошее начинается вот с таких, на первый взгляд, безумных мечтаний. Всему своё время.
– Расскажите, пожалуйста, как родился актёр Карэн Бадалов?
– Мой отец – кинооператор, почти тридцать лет проработал на киностудии имени Горького. В советские времена он возил меня в свои многочисленные экспедиции. Они мне так надоели, что я однажды решил: искусством заниматься не буду никогда! С детства увлекался математикой, физикой, и первым моим учебным заведением стал Институт стали и сплавов. Я его закончил и получил диплом. Но ещё на третьем курсе в моей жизни появилась театральная студия, называвшаяся "В старом парке". Попал я туда по-соседски: институт находился рядом с ЦПКиО. Там познакомился с замечательными ребятами, ставшими впоследствии профессиональными артистами. Вслед за ними стал поступать в театральный институт. Правда, особенно не затруднялся: в первый раз пошёл просто почитать в ГИТИС и, конечно, слетел. Во второй раз уже нацелился серьёзно на курс к Фоменко. А если говорить об актёрском становлении по большому счёту, то профессионалом я стал, пожалуй, только года два назад.
– То, что двенадцать лет назад на одном курсе собрались те, кого сейчас называют "фоменками", – это перст Судьбы или плод серьёзной селекционной работы Петра Наумовича?
– И то, и другое. Даже состав нашего "самого русского" (как тогда шутили в ГИТИСе) курса говорит о селекции: Мадлен Джабраилова, Тагир Рахимов, Рустем Юскаев, ваш покорный слуга. Да и двух сестёр-близняшек не каждый мастер отважится взять к себе на курс. Он целенаправленно брал людей, а не пластилин для собственных художественных изысканий. Двое из нашей команды имели высшее образование, некоторые уже закончили разные театральные училища.
– Может быть, Пётр Наумович уже тогда замышлял что-то вроде "Мастерской"?
– Наверное, замышлял, но, как всякий гений, сомневался. Человек такого уровня обязан после себя оставить театр. Как в известной истине о доме, дереве и ребёнке. Он этот дом построил.
– Вы, наверное, ещё в ГИТИСе ощущали свою избранность?
– Да что вы, какая там избранность! Мы так много работали, что еле ноги дотаскивали до кровати. Ощущали не избранность, а особое внимание к себе. Это произошло сразу после зимнего зачёта. Но никто из нас не знал, чего стоит это внимание. Нас учили все похвалы делить на двадцать, а к замечаниям прислушиваться.
– Вы сказали, что стали профессиональным актёром только два года назад. Это ощущение пришло к вам в связи с каким-то конкретным событием, спектаклем?
– Нет, наверное, просто настало время. Ощущение необходимости этой профессии приходит только с возрастом. Пётр Наумович в работе ставит нам очень серьёзные задачи. Не только актёрские, но и человеческие. Решить их без определённого жизненного опыта, без внутренней ответственности за свои поступки невозможно.
– Какие же это задачи, если не секрет?
– (Долгая пауза). Вчера мы сыграли "Деревню". Фома (так мы его ласково называем) пришёл на "разбор полётов" и сказал, дескать, играли симпатично, но "крови мало". Он всегда требует играть "до полной гибели всерьёз". Вроде, играешь честно, устаёшь до седьмого пота, но это совсем другое. Он требует работы души. Мы должны работать "нутром", так бередить душу, чтобы после спектакля нельзя было сыграть ещё раз. Работать нутром – самое сложное. Это – как в жизни: любить гораздо сложнее, интереснее и многограннее, чем заниматься любовью. Он учит нас любить, ненавидеть, не быть равнодушными.
– Вам по-настоящему близка его школа или здесь работает принцип "родителей не выбирают"?
– Для меня Пётр Наумович не отец. Он Учитель. Это более широкое понятие. Из того, что он нам даёт, я отбираю самое близкое мне в настоящее время. То, что не близко, не отбрасываю. На собственном опыте убедился: всё пригодится. Нам повезло, что он к нам до сих пор относится как к студентам, всё время учит нас. Ну кто ещё из режиссёров станет учить меня?!
– И в чём же состоит эта учёба?
– Фома постоянно ставит меня в такие ситуации, когда я ощущаю своё неумение. Тогда в работе появляется смысл. Когда всё сразу "с листа" получается, мне становится скучно.
– Не возникало ли у вас чувство узости рамок своего театра, не хотелось ли изучить другие школы, поработать, например, у Васильева, Гинкаса?
– Конечно, возникало. Это как в закрытой кастрюльке, где что-то варится, нужен выпускающий клапан. Но с возрастом всё более укрепляюсь в мысли, что никуда больше идти не хочется. Если будет выбор, я выберу Фоменко. Хотя справедливости ради надо сказать, что опыт работы с разными режиссёрами у меня небольшой, их было в моей жизни четверо. Как работают другие – не знаю. Может быть, надо было попробовать. Но, слава Богу, работы и у себя хватает. Да и что такое "узкие рамки"?! Человек строит дом и всю жизнь в нём живет. Это тоже узкие рамки. Но, зайдя к нему в дом, вы почувствуете такую атмосферу, что не захочется уходить. В своём доме можно зализывать раны.
– Чем объяснить такие бурные темпы работы в вашем доме в последнее время: две премьеры подряд и третья уже на подходе?
– Всё просто: Пётр Наумович стал работать только здесь. Это ведь его жизнь. Он не из тех пенсионеров, которые сидят на скамеечке в парке. Он построил даже не театр, а дом. И здесь живёт. Ну какой это театр: два небольших зальчика, где, пожалуй, можно только репетировать, выпускать камерные, лабораторные работы. Здесь хочется не столько играть и представлять, сколько работать. Конечно, зал мест на триста-четыреста с классической сценой нам не помешал бы.
– Но вы же пока обходитесь, арендуете зал в "Новой опере".
– Тот зал всё же очень велик для нас – 800 мест! И акустика оперная. Есть спектакли (например, "Деревня"), не терпящие больших помещений. А другие: "Месяц в деревне", "Двенадцатая ночь", "Чичиков" – просто требуют их. Играть Тургенева на Кутузовском тяжеловато. Переходить с большой сцены на малую сложно, обратный процесс гораздо легче. А в Таллине вышли с этим спектаклем на большую сцену, и как заново родились! Он стал мощнее, задышал полной грудью. Здесь, в малом зале, он более интимный, более разговорный.
– Как вы считаете, "Мастерская" – это обычный театр, где может ставиться самая традиционная драматургия или само название предполагает некие эксперименты?
– "Мастерская" готова принимать всё. Лишь бы драматургия была хорошая. Очень часто, прочитав пьесу, я не принимаю какие-то вещи. Но всё открывается в работе. Наша профессия – эмпирическая. Вот, например, "Варвары" мне казались поначалу не самым удачным выбором. Но уже заметил такую деталь: когда мне кажется что-то не очень хорошим, почти всегда в результате получается неплохо.
– Можете ли вы влиять на выбор репертуара?
– Нет. Такое вмешательство было бы некорректно. В театре должна быть дистанция, иерархия. Но высказать своё мнение я могу, и почти всегда нас спрашивают. Повлияет ли моё мнение на режиссёра – это ещё вопрос. Иногда случается так, что я чего-то решительно не принимаю и отказываюсь от работы. Так было однажды, когда мне предложили роль, где передо мной ставились очень лёгкие задачи. Считаю, что иногда имею право на такие поступки. У меня есть свои принципы. Хотя, наверное, я – тоже не подарок. И у меня в голове свои "тараканы". Единственный человек, которому не могу отказать ни в чём, – это Пётр Наумович. Даже ту неинтересную роль, о которой говорил выше, я всё же один раз сыграл по просьбе Мастера.
– А всерьёз наступать себе на горло приходилось?
– Не без этого. Но главное, наступив, потом не стоять на месте, а идти дальше.
– Есть ли у вас роли, которые, на ваш взгляд, вам не подходят?
– Не могу сказать. Самой сложной ролью для меня ещё со времён студенческой скамьи был Беркутов в "Волках и овцах". Работать было очень сложно, и "присвоить" его я никак не мог. Два-три года назад пришёл момент осознания и роль пошла: потихоньку, шаг за шагом, от спектакля к спектаклю. Поэтому, если что-то не личит, не тороплюсь отказываться. Причина всегда во мне. Действительно: если партнёры существуют в материале, их что-то захватывает, а меня – нет, то скорее всего я отстаю, не успеваю за общим процессом. Стараюсь искать причины в себе и бороться со следствиями. Но не всегда получается.
– Если взглянуть на актёра Карэна Бадалова со стороны, что главное вы бы отметили в нём?
– Иногда в работе мешает ум и какой-то прагматизм. Мне об этом многие говорят, и я с ними согласен. Перешагнуть этот внутренний рубеж очень сложно.
– Ваша актёрская техника и, в частности, пластика – это тоже "от ума"?
– Наверное, от Бога что-то даётся. В те годы, когда я был студийцем, у меня был потрясающий учитель по пластике Владимир Ананьев. Так серьёзно со мной больше никто пластикой не занимался. Даже в ГИТИСе. Это была именно пластика, а не сценическое движение. Он заложил в меня основы. Сейчас Евгений Борисович Каменькович предложил мне преподавать в школе-студии МХАТ тренинг. Первое, что я сказал студентам: "Импульсом для движения служит слово, внутренняя жизнь актёра". Я поначалу не понимал того, что в меня закладывал Ананьев. Просто выполнял. Как хороший школяр. Потом Пётр Наумович научил меня говорить. И эти два компонента сошлись.
– Не кажется ли вам, что иногда в спектаклях "Мастерской" используется ваш устоявшийся актёрский имидж и даже характер?
– В каждом деле есть какие-то периоды, циклы, в течение которых используется что-то наработанное. Но Пётр Наумович видит и чувствует наш рост и понимает, какие задачи необходимо ставить именно сейчас. Естественно – от амплуа не уйдёшь. Но меня это не пугает. Меня радуют изменения в моих персонажах. Я к ним приближаюсь, начинаю понимать их образ мыслей. Самое сложное – их "присвоить". Тогда наступает момент внутренней импровизации. И тогда на первый взгляд узкие рамки раздвигаются до невероятных размеров. Тогда происходят эти магические паузы и замирает зал. И уходит понятие амплуа. Есть характер и характерность. Мою характерность могут использовать. Но характер я могу раздвигать. Дай Бог, если это удаётся.
– Не приходит ли ваша внутренняя импровизация в противоречие с замыслами режиссёров?
– Я послушный актёр. В том смысле, что внешне никогда не проявляю неудовольствие. Но если мне что-то не нравится, становлюсь вредным и делаю по-своему. Если не знаю, как подступиться к чему-то, покоряюсь, пробую то, что предлагают. Но если нутром, животом чую: что-то не то, впоследствии постепенно это переделаю.
– А если это будет противоречить режиссёрской концепции?
– Не будет противоречить. Ведь ты же работаешь не в моноспектакле, переделываешь что-то вместе с партнёрами. Есть жёсткая конструкция, из которой выбиваться нельзя. Одеяло на себя никогда не тяну.
– Значит, во взаимоотношениях с партнёрами всегда имеет место полная гармония?
– Ну, гармония – это громко сказано. Иногда (очень редко) бывает некоторое недопонимание в моменты импровизации. Когда партнёр куда-то "идёт", а я не чувствую направления. Причин много: иногда партнёр не точно объясняет свои действия, а иногда сам не успеваешь прийти в импровизационное состояние. В этом смысле бесценно то, что мы учились на одном курсе и сейчас живём вместе. Иногда говорят, что с нами работать трудно. Наверное, это справедливо. Взять того же Сергея Тарамаева: близкий нам по духу человек, и то мы с ним не всегда стыкуемся. Потому что почти за двенадцать лет совместного существования у нас появились неписаные договорённости, которые невозможно объяснить. Для того чтобы это понять, надо долго жить вместе.
– Недавно Ксюша Кутепова сказала мне: иногда по-человечески мы можем и раздражать друг друга, но как партнёры – всегда беспредельно интересны. Вы с ней согласны?
– Абсолютно! Слава Богу, мы научились разделять жизнь и сцену. В жизни мы все разные. На сцене же всегда интересно. В противном случае многие бы давно ушли. Предложений, поверьте, очень много. И в том числе – улучшающих "финансовое состояние". Уйдя отсюда, люди получали бы в пять-шесть раз больше, но такого удовольствия не было бы. Если в этой профессии не получать удовольствия, она становится бессмысленной.
– Теперь круг ваших партнёров расширился. Как они приживаются в доме?
– Честно скажу, я был против этого расширения. Мне казалось, что тех людей, что есть, – вполне достаточно. И если понадобятся другие, можно взять на время. Но это был выбор Петра Наумовича. Я могу с этим выбором не соглашаться, но обязан уважать. Прошло время. Мы с ними работаем уже второй сезон. Начинаем притираться. В работе у меня ни с кем из них проблем не было. Если и появлялись, то сугубо "ремесленные". Во время репетиций они к нам прислушиваются, но иногда и сами делают замечания. Глядя на нас, справедливо считают это возможным. Но они видят и слышат ту деликатную форму, в которой делаются эти замечания, и стараются впитать свойственную нам чуткость по отношению друг к другу. Её, правда, им ещё не хватает. Но они молоды, им свойствен максимализм. Я был таким же. Со временем это пройдёт. Все их недочёты я делю на десять. Эти ребята, безусловно, талантливы. Им повезло, что Пётр Наумович их много занимает в работе. Говорят, что "старики" (то есть – мы) сейчас меньше работаем. Ничего, мы потерпим. Самое сложное в актёрской профессии – это ждать.
– Нет ли у вас желания, не дожидаясь "милостей от природы", самому заняться режиссурой?
– Никогда не было. Я очень хорошо понимаю, насколько отличаются друг от друга наши профессии. Всегда завидовал режиссёрам, наблюдая их на репетициях. Мне кажется, что они знают то, чего я не знаю. И при этом никогда не раскрывают этой тайны, черти. Видно, хотят меня к этому подвести, чтобы я сам что-то открыл. Но я не завидую им в дни премьер. Режиссёр сидит в зале, только смотрит и уже изменить ничего не может. И здесь уже пахнет предынфарктным состоянием. Спектакль начинает жить своей жизнью. И актёр тоже. Режиссёр меня "родил", но живу-то я сам! Весь кайф познания получаю я.
– Это действительно кайф?
– Да. Но не в смысле наркотического опьянения. Это огромное удовольствие, которое я трезво осознаю. На сцене я никогда не заигрываюсь, не схожу с ума, не допускаю членовредительства и истерик. Это иллюзия страстей, но та иллюзия, которую каждый из нас хочет получить. Мы же хотим быть обманутыми! Просто не желаем за это платить своей жизнью. Поэтому люди приходят в театр: здесь им ничего не грозит. Но если удаётся зрителя приобщить, погрузить, затянуть к себе, то он начинает переживать те душевные состояния, которые хотел бы пережить. В обычной жизни в силу её закрытости и прагматичности он боится раскрыть себя. А тут он может не бояться. И если есть такой зритель, то и мне хорошо. У нас происходит "энергообмен". Но такое бывает очень редко. Это моменты "магической тишины".
– Вы их всегда чувствуете?
– Конечно! Умение их почувствовать – это часть профессии, ремесла. Но ремесла индивидуального, штучного, куда вкладывается душа. Его нельзя измерить ничем.
– Случались ли такие моменты в последнее время?
– Вы, конечно, помните нашу с Ксенией "концертную" сцену Елизаветы Богдановны с доктором из "Месяца в деревне". Со временем удаётся так её поворачивать, что обнажается трагедия Шпигельского. На недавних гастролях в Эстонии именно в этой сцене случился момент, о котором мы говорили. В зале на пятьсот мест стояла абсолютная тишина. Я не могу сказать, как это возникает, не могу вспомнить этот путь. Даже если вспомню, то повторить не смогу. Это как в любви: никогда не повторишь ту волшебную ночь. Такие моменты поднимают. Наверное, они сродни ощущению власти. Но получая эту власть, я отдаю не меньше, чем беру. И ради этого работаю.
– Вы вместе со своим театром прожили изрядный кусок жизни – почти двенадцать лет. Подводите какие-то итоги?
– Я считаю, что этот период закончился одной постановкой – "Деревней". Иногда приходит то, о чём и не мечтаешь. Так случилось с этим спектаклем. Я опешил, когда мы прочитали повесть. К своему стыду, я даже автора не знал. Мечтал ли я именно о такой театральной работе? Нет! Мечтал ли о такой "человеческой" работе? Да! У меня особенно в последнее время было желание мощной внутренней работы. И мне было неважно, на каком конкретном материале это произойдёт. Поверьте.
– Как вы думаете, что "подвигло" Петра Наумовича на выбор именно этой вещи?
– Борис Вахтин ушёл из жизни лет двадцать назад, но тогда Петру Наумовичу запретили это делать по каким-то идеологическим соображениям. Сейчас пришло время, сложилась компания людей, появились молодые актёры, да и старшие в лице Людмилы Михайловны Арининой и Сергея Тарамаева. Я почувствовал в этом материале что-то близкое моему любимому Платонову. На уровне ощущений, атмосферы, какого-то "тумана". Фома умеет плести атмосферу, и она захватывает. Для меня это возможность откровений. Я считаю "Деревню" очень честной человеческой работой.
– Выбирая эту повесть, и Пётр Наумович, и вы все в какой-то степени шли на риск, не правда ли?
– Да, сейчас почему-то все боятся брать военную тему, а если и берут, то её воплощение происходит в какой-то спекулятивной форме. А для нас, как ни парадоксально, она оказалась очень близкой. Она нас трогает, значит, будет трогать и других людей. Самое главное – уметь отдавать долги. "Деревня" – чистая и светлая вещь. При том, что люди гибнут. Как всегда в России: гибель, но всегда с надеждой. У Петра Наумовича при всей сложности его натуры и отношения к власти, всё замешано на любви, а это главное.
– На пресс-конференции, посвящённой премьере "Деревни", Петру Наумовичу даже попеняли на апологию советского образа жизни. Как вы к этому относитесь?
– Что бы ни говорили о советских временах, они мне дали хорошее образование. Меня кормили, поили, дали возможность заниматься любимым делом. И это счастье, что я живу именно в этой стране. Хорошо, что Пётр Наумович приучает нас к таким вещам. За эту работу я ему особенно благодарен.
– Меня в "Деревне" больше всего поразила светлая и юная режиссура. Возникло ощущение, что Пётр Наумович, может быть даже неосознанно, стремился к оживлению студийности в "Мастерской".
– У вас правильное ощущение. Это ведь проза, а прозу ставить всегда сложнее. Выразить на сцене образный слог непросто. Было много проб. Многие сцены переписывались несколько раз. Вообще, спектакль, как и многие другие, родился из этюдов. Такая практика установилась у нас ещё в студенчестве. Например, "Двенадцатая ночь" тоже выросла из экзаменационных отрывков. Этюдный метод работы похож на то, что принято считать студийностью. Когда на первом курсе ребята бесшабашно, ничего не боясь, играют животных, предметы и так далее.
– Вот и вы: "мэтр" и один из отцов-основателей "Мастерской" на двенадцатом году жизни сподобились сыграть огородное пугало и колодезного журавля. Как-то несолидно.
– (Смех). Если говорить серьёзно, то меня не может смутить никакая, даже на первый взгляд самая странная работа, если она делается с Петром Наумовичем. Это – самый великий режиссёр по крайней мере из тех, кого я знаю. У него я готов играть любую роль. Даже бессловесно стоять в стороне. Потому что самое главное с ним – это не результат, а процесс репетиций. Очень тяжёлый, а порой и мучительный. Иногда даже приходится делать что-то скрепя сердце.
– Сцена для вас – это наркотик или осознанная необходимость?
– Это – осознанная необходимость. Как свобода. Все актёры тщеславны. Всем нам нравится успех. Но это естественно: в любой профессии должно присутствовать тщеславие. По сути дела вся жизнь человеческая – это игра. Человек к какому-то моменту жизни начинает понимать, что он смертен. Но если постоянно жить с этой мыслью в голове, станет страшно. Поэтому для того, чтобы себя отвлечь, человек занимается игрой. Иногда игра становится смыслом жизни. Но важно не забывать, что это только игра по определённым правилам. В данном случае мне эти правила нравятся. Поэтому я буду играть в эту игру.
Беседовал Павел Подкладов
"Экран и сцена", №44-45, 11-2000